 Не буду скрывать, с Олегом, особенно в студенческие времена, нас связывала крепкая дружба. Это тем более странно, ведь по характеру мы скорее различны, чем похожи. Я – писатель: порывистый, увлекающийся, нервный, тревожный. Он – ученый: размеренный, обстоятельный, упорядоченный, системный и даже во многом педантичный. Недавно мы встретились, вспомнили прошлое, побеседовали и о дне сегодняшнем.
Не буду скрывать, с Олегом, особенно в студенческие времена, нас связывала крепкая дружба. Это тем более странно, ведь по характеру мы скорее различны, чем похожи. Я – писатель: порывистый, увлекающийся, нервный, тревожный. Он – ученый: размеренный, обстоятельный, упорядоченный, системный и даже во многом педантичный. Недавно мы встретились, вспомнили прошлое, побеседовали и о дне сегодняшнем.
Прикоснуться к неизвестному
– Олег, мы вместе поступили в институт на истфак, вместе поехали в археологическую экспедицию в античную Тиру под Белгород-Днестровский. И тебе, и мне понравилась особая, ни с чем не сравнимая – свободная, раскрепощенная – манера работы и жизни в экспедиции. Я ездил с той поры в экспедиции в отпуск, и это затянулось лет на 30. А ты стал профессиональным археологом. Как?
– Еще до поездки в Тиру я прочел много книг по археологии. А экспедиция позволила, как говорят, прикоснуться к неизвестному. Вот лежала амфора здесь две с половиной тысячи лет, и ты первый, кто трогает ее после грека или скифа, наливавшего на пирушке из этой амфоры вино друзьям.
– Античная археология очень отличается от археологии Древней Руси. Почему ты занялся так называемой «северной археологией»?
– Случай. Я много продолжал читать по археологии на втором курсе, а потом поехал в Институт археологии Академии наук СССР. Там прямо на стенде были вывешены списки, в какие экспедиции набираются студенты (сейчас сказали бы – волонтеры). В экспедициях АН рабочих кормили и даже платили за сезон.
– Но ездили туда не на заработки?
– Нет. Прежде всего был интерес – прикоснуться к реальному прошлому своей родины, пообщаться с людьми из разных регионов страны, которые разделяют твои увлечения.
– Что тебя привлекло тогда, в 79-м?
– Одно объявление: «Раскопки древнерусских курганов в Новгородской области. Руководитель – Георгий Николаевич Пронин». С Жорой и с Андреем Фроловым, известным среди археологов как Адюдя, мы как начали работать в 1979 году, так и работаем до сей поры вместе. Сколько лет?
– 43 года. Помнится, каждый год, когда ты уезжал в экспедицию, мы на калужском вокзале пели песню «Один лишь только раз в году бывает май…». Тот май закончился?
– Тот закончился, начался другой. От человека зависит, что у него в душе – цветение мая или хмурый ноябрь.
Путь в профессию
– Получается, пять лет в институте и пять лет в сельской школе ты занимался археологией преимущественно только летом. А потом она стала профессией…
– Археология – это не только профессия, это еще и образ жизни. Летом копаешь, производишь разведки, зимой – обрабатываешь полученные за лето материалы. Археологией занимаешься всегда – живешь ею!
– Что такое археологическая разведка?
– Поиск памятников археологии, таких как городища, селища, курганы, стоянки древних людей. Разведки мы проводили многие годы на территории нашей родной Калужской области. Наш край очень богат археологическими памятниками различных эпох.
Большинство еще ждут своего исследования.
Ну если по-простому: то, что для грибника или охотника является холмом, поросшим леском или кустарником, на самом деле городище или древний курган. Часто весь полевой сезон наша группа занималась поиском памятников, и всю зиму я эти памятки описывал, паспортизировал, включал во всесоюзные и всероссийские каталоги – шел процесс создания «Археологической карты России».
– Тогда ты понял, что территория нашей области является особо интересной для научного исследования?
– Да. Постепенно накапливался материал, появлялись публикации в специальных журналах, и в 2001 году я вышел на защиту кандидатской в Институте археологии РАН.
СПРАВКА
Олег Прошкин в своей диссертации раскрыл историю заселения Верхней Оки в Древнерусский период с IX по XIII век. Территория современной Калужской области была заселена и освоена славянами-вятичами, которые пришли с юго-запада, из среднего Поднепровья в IX веке.
Изучать и охранять
– Археология является для многих чем-то загадочным, притягательным и даже сакральным. Возможно, причина тому – многочисленная художественная литература о магах, о «попаданцах» – людях, попавших в прошлое. А как на самом деле стать реальным археологом простому калужанину?
– Во-первых, нужно получить хорошее базовое историческое образование. И соответственно нужна большая практика: ездить в экспедиции – и в античные, и в северные, в разные города и страны. Любой археолог, даже академик продолжает ездить помимо своей в другие экспедиции и перенимать опыт, чему-то учиться. Археология – это постоянно развивающаяся наука, появляются новые методы, новые способы исследования.
– Например?
– Радиоуглеродные датировки, определение по остаткам ДНК, химический анализ металлов, глины, геофизические исследования, археологическая микробиология (выявление и изучение органических материалов в быту и погребальном обряде древнего населения) и многие другие.
– А чем ты конкретно занимаешься сейчас в Институте археологии?
– Сейчас – охранной археологией, прежде всего в Калужской области и в сопредельных – Московской, Тульской, Смоленской.
– Поясни читателям.
– Согласно действующему законодательству при строительстве дорог, жилых комплексов, промышленных объектов, любом хозяйственном освоении территории мы проводим разведку на наличие памятников археологии. Если такие памятники обнаружены, их необходимо исследовать до начала строительства, что мы и делаем.
– То есть наши предки и предшественники не забыты. Олег, а каковы твои научные интересы?
– Я продолжаю заниматься своей основной темой – изучением славянского освоения Верхнего Поочья. Много лет посвятил исследованию уникального археологического памятника в Козельском районе – Чертова городища. Что, собственно, и является дальнейшим развитием научной темы моей кандидатской диссертации.
– Одной фразой ты сможешь сформулировать, зачем нам стоит изучать наше прошлое?
– До меня это сформулировал известный философ: «Народ, который не знает своего прошлого, лишен будущего».
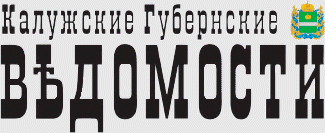
 Газета
Газета
 Прямая линия
Прямая линия













 Не буду скрывать, с Олегом, особенно в студенческие времена, нас связывала крепкая дружба. Это тем более странно, ведь по характеру мы скорее различны, чем похожи. Я – писатель: порывистый, увлекающийся, нервный, тревожный. Он – ученый: размеренный, обстоятельный, упорядоченный, системный и даже во многом педантичный. Недавно мы встретились, вспомнили прошлое, побеседовали и о дне сегодняшнем.
Не буду скрывать, с Олегом, особенно в студенческие времена, нас связывала крепкая дружба. Это тем более странно, ведь по характеру мы скорее различны, чем похожи. Я – писатель: порывистый, увлекающийся, нервный, тревожный. Он – ученый: размеренный, обстоятельный, упорядоченный, системный и даже во многом педантичный. Недавно мы встретились, вспомнили прошлое, побеседовали и о дне сегодняшнем.




